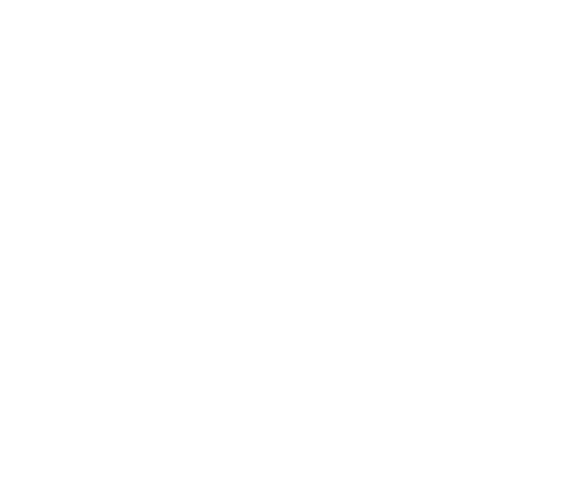Литературные среды. Новый сезон
Выскребенцева Дарья побывала на встрече с Людмилой Улицкой* и Александром Архангельским* и узнала, в чем заключается свобода автора, возможно ли избежать давления эпохи и какова зависимость автора от власти, читателя и дружеской среды.

Проект «Литературные среды» вновь начинает работу! В минувшую пятницу, 2 октября, прошла первая встреча нового сезона в формате онлайн-диалога. Писатель Людмила Улицкая* и профессор НИУ ВШЭ, писатель Александр Архангельский* обсудили тему «Границы: за и против». Модератором беседы выступила Майя Кучерская.
Творческий вечер прошел в непринужденной обстановке за серьезными разговорами. Главной темой обсуждения стала проблема границ и цензуры. Александр Архангельский* заметил, что «если автор хочет писать, то в процессе письма он думать о последствиях не должен, вопроса «можно ли это писать?» нет. Писать можно. Если нужно, значит можно».
Однако насколько далеко должны распространяться личные границы автора? Людмила Улицкая призналась, что, если бы ее стали ограничивать, она бы просто забрала рукопись из издательства и сказала «до свидания»: «я достаточно себя уверенно чувствую, к тому же у меня есть опыт, и он довольно забавный. Моя первая книжка вышла не в России, а во Франции, и даже не на русском языке, а на французском. Если бы сегодняшнее российское издательство попросило исправить рукопись, я бы забрала текст и издавала его где-то в других местах заграницей».
Постепенно тема перетекла к вопросу о роли читателя в жизни автора. Майя Кучерская заметила, что «писатель без читателя не может, это диалог, это воздух, это витамины. Чем тогда питаться? Чем жить, если не можешь публиковаться для современников».
Как оказалось, Людмила Улицкая некоторое время писала в стол, поэтому отказ издательства от публикации книги не стал бы для нее испытанием: «я ее спокойно бы положила в стол и ждала времени, которое напечатает эту книгу. Мне повезло, потому что я очень поздно начала, у меня нет авторского тщеславия. К тому же, у нас есть интернет. И это абсолютно меняет ситуацию. Во времена моей молодости мы покупали, и перепечатывали книги и приносили их друг другу и на кухне, передавая по листочку, читали. Сейчас мы нажимаем на кнопку, и все в интернете. Поэтому ситуация очень изменилась со времен моей молодости, она не так драматична». В свою очередь, Александр Архангельский* придерживается другого принципа. Писатель отметил, что в журналистике его мера компромисса выше, чем в литературной работе. «Именно по причинам, связанным со скоропортящимся продуктом. Если материал не выходит сейчас, то спустя десять, пять, четыре, три, два года он никому не нужен. Так бывает и с литературой. Честные по отношению к себе писатели, к каковым, например, принадлежал Илья Эренбург, говорили, что они готовы уродовать книжку, потому что спустя годы это будет не нужно. Была знаменитая история публикация «Люди, годы, жизнь», когда он объяснял, что он писатель средний, вечности литературной у него не будет, и он должен сделать все, чтобы произведение появилось сейчас. Это честный выбор. Писать я буду все равно то, что хочу, как хочу и что считаю нужным. А дальше смотреть при публикации, какова цена вопроса».
Тогда Майя Кучерская задала вопрос: насколько автор должен идти на компромисс, насколько он зависим от власти? И почему писатель должен быть независим?
Людмила Улицкая: «формулировка Мандельштама – «власть отвратительна, как руки брадобрея» лучше всего описывает ситуацию. И должна сказать, что в жизни у меня не было и пятнадцати минут, когда бы мне нравилась власть. Вероятно, даже если власть была бы значительно лучше, чем она есть, наверное, были бы причины у меня ее не любить. Это противостояние частного человека и государства, власти и отдельно взятого человека заложено в самом характере отношений группы и одного человека. Для меня это вопрос решенный. И слово «нет» произнесено мной очень рано. Никакого контакта с властью я в своей жизни не планирую. Границы устанавливаю я сама и ничто меня не заставит их перейти».
Александр Архангельский*: «формулу мне подарил один знакомый. Он сказал:
Александр Архангельский*: «формулу мне подарил один знакомый. Он сказал:
«Что может дать тебе власть? Она может дать тебе деньги, славу. Что ты можешь дать власти в ответ? Ты можешь дать ей свой талант. В тот момент, когда ты его дал, у тебя его больше нет».
Это хорошая формулировка. Во-первых, каждый должен решить для себя, где мера его личного компромисса, речь о взаимодействии с властью. И самому себе и, желательно, людям окружающим. Я для себя когда-то решил, что внутрь власти – нет, дружить с властью – нет, брать у власти – нет, разговаривать с властью – да. Ровно до той поры, пока тебе не ставят никаких связывающих условий. Политика – это отдельная профессия. Может ли писатель быть политиком? Писатель может выполнять функцию политика в переходный период – когда одна система рухнула, а другая еще не наступила».
Когда речь зашла о книгах Александра Архангельского* «Свободные люди» и Людмилы Улицкой «Зеленый шатер», авторы оказались едины во мнении, что диссиденты выполнили свою историческую миссию и сделали все, что могли. Людмила Улицкая поделилась историей из жизни: «Россия никогда так хорошо не жила, как сейчас. У меня на руке писали номерочек, когда надо было десяток яиц купить. Меня бабушка с собой брала, чтобы купить два десятка яиц, а не один. Люди сегодня сыты, более того даже те, у кого не хватает денег на еду на самом деле могут работать, потому что работа тоже есть. Границы открыты, чего не было никогда. Информация – ты нажал кнопку, и все есть. У меня библиотека собрана в 60-е годы. Половина библиотеки – это самиздат или книги, купленные заграницей, либо перепечатки. Эта перемена жизни к лучшему связана с тем, что диссиденты были первые люди, которые задумались о свободе. Я убеждена, что эти люди свою историческую функцию выполнили!»
Когда речь зашла о книгах Александра Архангельского* «Свободные люди» и Людмилы Улицкой «Зеленый шатер», авторы оказались едины во мнении, что диссиденты выполнили свою историческую миссию и сделали все, что могли. Людмила Улицкая поделилась историей из жизни: «Россия никогда так хорошо не жила, как сейчас. У меня на руке писали номерочек, когда надо было десяток яиц купить. Меня бабушка с собой брала, чтобы купить два десятка яиц, а не один. Люди сегодня сыты, более того даже те, у кого не хватает денег на еду на самом деле могут работать, потому что работа тоже есть. Границы открыты, чего не было никогда. Информация – ты нажал кнопку, и все есть. У меня библиотека собрана в 60-е годы. Половина библиотеки – это самиздат или книги, купленные заграницей, либо перепечатки. Эта перемена жизни к лучшему связана с тем, что диссиденты были первые люди, которые задумались о свободе. Я убеждена, что эти люди свою историческую функцию выполнили!»
Во второй части творческого вечера говорили о том, как понравиться читателю, стоит ли ему нравиться в целом и насколько давит на автора дружеский круг общения. Александр Архангельский* лаконично заметил, что желание нравиться читателям приравнивается к притворству и проживанию не своей жизни. «Герои попроще – потому что мне нравится попроще, если поярче – потому что мне так нравится, а не читателю», - резюмировал писатель.
В свою очередь Людмила Улицкая рассказала историю о начале своей карьеры: «я биолог и мой мир гораздо более сосредоточен на человеке, его состояниях. Успех моих книг связан с тем, что не время, а некоторая человеческая структура, некоторая универсальная человеческая организация имеет больший отзыв. В начале своей работы я с удовольствием увидела, что мою книжку читает лифтёрша в подъезде, в котором тогда еще были лифтерши. Я совершенно изумилась, потому что она не знала, что это моя книжка. Рассказы какие-то. И это было совершенно поразительно. В первую очередь мой читатель – это мои друзья. Те несколько человек, кто прочитает книжку до того, как я отнесу ее редактору. Я ориентируюсь на читателя-близкого друга».
«Насколько же круг общения давит?» – уточнила Майя Кучерская.
«Советская власть научила нас высшему классу отношений, потому что мы друг без друга просто не выживали. Над чем принято смеяться – московская кухня – это была атмосфера высшего доверия, мы друг без друга не могли. Эта атмосфера сообщества очень тесного у меня сохранилась и по сей день. Каждый существует в том пространстве, которое сам себе надышал, в этом я уверена», - ответила Людмила Улицкая.
В заключительной части вечера право задавать вопросы перешло к зрителям. Многим было интересно, как оба гостя находят структурное решение для больших произведений. Александр Архангельский* признался, что пишет, как оно идет. Однако Людмила Улицкая заметила, что ее ведет материал: «меня ведет сам язык. Потому что в какой-то момент я получаю знак, что не туда идешь, не так, я могу остановиться. Скажем, на роман «Казус Кукоцкого» ушло семнадцать лет, но это не значит, что я семнадцать лет его писала, я его писала, он останавливался, я понимала, что передо мной стена. Мне не давался язык, разговор. Меня воспитывают мои книжки, не я их делаю, а они меня делают. Я мало чего придумывала головой. Они скорее дозревали сами. Вы знаете, когда я пишу пьесу, у меня пьеса вся нарисована. В драматургии у меня все ходы как в шахматах, я знаю, как это движется. А когда это касается прозы, то я знаю, в какой стороне дверь откроется, чтобы выйти, но не больше».
Один из зрителей вечера поинтересовался, читают ли Людмила Улицкая и Александр Архангельский* рецензии на свои произведения. Людмила Улицкая заметила, что у нее не хватает времени читать критику: «честно говоря, я даже рецензии практически не читаю. Это отнимает много времени, а у меня его мало, в последний год – в особенности. Раньше я, начавши книгу читать, всегда ее заканчивала. А в последние годы я могу книжку закрыть на пятой странице. Самое драгоценное, что осталось – это время». При этом Александр Архангельский* заметил, что смотрит на данный вопрос по-другому: «иногда читаю, иногда нет. По свежим следам стараюсь не читать, когда все еще не остыло и ты внутри этой формы, читать критику нервно. Когда ты уже отделил себя от текста, тогда можно почитать. Да и то не все подряд».
Репортаж Дарьи Выскребенцевой
* Людмила Улицкая и Александр Архангельский включены Минюстом в список физлиц, выполняющих функции иностранного агента.
Дата
6 октября
2020
Рубрики
В статье упомянуты