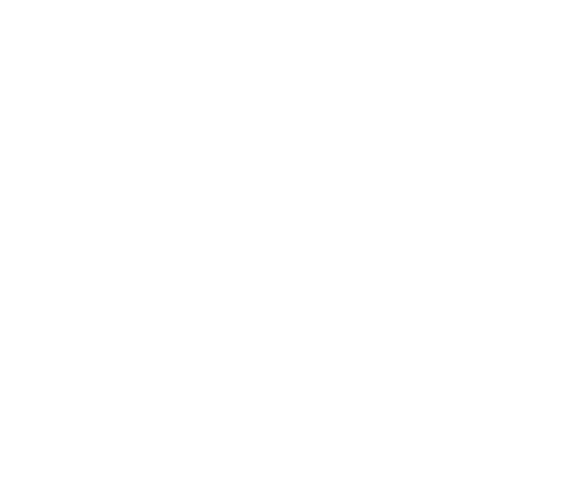Таруса: «Долина грез»
Магистранты «Литературного мастерства» снова отправляются в «писательские» места. На этот раз ездили в гости к Марине Цветаевой и Константину Паустовскому в Тарусу.

В минувшие выходные студенты первого и второго курсов магистратуры «Литературное мастерство» посетили Тарусу – старинный русский городок, где проводили лето Марина и Анастасия Цветаевы, жил Константин Паустовский, писал картины Виктор Борисов-Мусатов.
Несмотря на загадочное исчезновение гида и прочие мелкие неурядицы, поездка в Тарусу превратилась в новое приключение. Магистранты «Литературного мастерства» осмотрели небольшой музей семьи Цветаевых, обошли улочки Тарусы. Погода была на стороне путешественников: октябрь, солнце, речка.
Сначала мы долго гуляли по Тарусе. Разбились на мелкие группки и отправились исследовать все самые неприметные тропинки. Мы бродили по берегу Оки, забирались на хрустящие листьями сопки. Обошли Мусатовский косогор, где похоронен сам художник, его сестра и физик-кристаллограф Юрий Вульф с супругой. Заглянули в Воскресенскую церковь, потом сели на небольшом обрывчике, смотрели на реку, дышали теплом. Ребята вслух читали стихи Цветаевой. Чувство было такое, будто прикоснулись к чему-то нереальному, эфемерному, но прекрасному. Видели на пыльной дороге дедушку – седая голова, борода тоже седая, за плечами болтается холщовый мешок. Хороший дедушка – писательский. В Тарусе все такое – литературное.
Уже на закате смотрительницы музея Паустовского пустили магистрантов к себе послушать про будни Паустовского в Тарусе, побродить по его уютному домику, где такой рабочий кабинет – обзавидуешься.
А ещё в Доме литераторов Майя Александровна Кучерская провела выездной творческий семинар. Студенты по-очереди прочли любимые стихотворения Марины Цветаевой и написали короткие этюды. Мы выбрали некоторые из них:
Янтер Наталия
Идётся нога за ногу, медленно как во сне. Дымка в воздухе, солнце стеклянным шариком. По ноздрям щекочет острая пряность мясного сока, шкворчащего на горячих углях.
– Армянская шаверма, – поясняет гид. – Лучшая в Тарусе.
Но шавермы в программе нет. И шкворчат под ногами пригоревшие листья. Выходим к реке.
Дышать теплом, как будто самую малость простуженным, легко. И простудиться взаправду тоже, намочив ноги в Оке.
Миндальный песок, палевый свет, шафранный цвет. Бредём-разбредаемся: воровато глотаем сухое красное, заедаем сыром мягким, помнящим ещё родство с творогом, и виноградом, позабывшим о родине. Курчавятся берёзы, скрипят ветви, река антрацитово-рябая течёт. И мы течём к Кенотафу.
Ломкий сухоцвет, горечь масляной краски, запах хлеба, стылость камня.
Здесь хотела бы лежать Марина Цветаева...
Здесь же делают совместное фото молодые писатели. И идут дальше, к Уснувшему мальчику.
Евгения Скобина
Свежее дыхание неба струится меж лесных клыков. Катерная волна старательно вылизывает камни. Песок вострит устричные уши. В них, черных и гладких, свернулось клубочком солнце. У причала, зарывшись носом в песок, дремлют сытые лодки. Тропа вытягивает вверх. Кудрявые макушки на ходулях сыпят жёлтым, оранжевым конфетти. Вульфы покоятся в семейном кругу. Каменный мальчик отбил пятки, пытаясь встать с могильной плиты.
Церковь, цветы, Цветаева. Ветер не тронет шаль. Спина не станет ровнее.
Марина делает шаг. Гвоздика в руках алеет.
Марина Колмыкова
Все заканчивалось опять, и опять по-дурацки. Зачем было столько ждать октября, говорить себе каждый вечер — скоро уедем, вот-вот уедем, всего ничего осталось, день был противный, спорили на планерке два часа, а разошлись все равно каждый на своём — но перед сном все это залечивалось, чинилось одной фразой: «Скоро уедем». И уехали, и дождались, и наступило. Дом, калитка, подъездная дорога с асфальтовыми пробоинами — все точно как в том году. На стенах спальни обои в ирисах, выбирала его мать, он обводил пальцем шершавый блестящий их контур, говорил:
— Дочку назовём Ирой, Ира-ирисы.
И дни как нарочно все были солнечные, и дочка каждую минуту словно могла вбежать в комнату, почему-то в воображении всегда светловолосая и кудрявая, хотя мы с ним оба шатены.
Обои в ирисах тоже на месте, покрывало пахнет залежавшейся тугой влагой. И окна с облупленной краской, и яблоки падают с тем же сплющенным стыдным стуком. И листья с березы у забора крошечно медленно падают, почти что величественно, словно спускаются к ужину по парадной лестнице.
Все на месте, как ингредиенты в рецепте — дом, калитка, обои в ирисах, березовые листья. Но как по рецепту ничего не получалось, липло к пальцам, пригорало, сохло. И назад возвращалась одна и на электричке.
Влад Тимкин
Такие места созданы для осени.
Высокий берег открывает поворот реки
То, что было заливными полями,
Залито желтым — всех оттенков.
Ты в магазине красок, смотришь колеры,
Не выбираешь — как тут выбрать.
Да и незачем это: нет таких стен,
Которые можно так выкрасить.
Давно нет и того маляра, кисть которого стала рекой,
Сквозь его спецовку растут деревья.
На том берегу идут кони.
Около церкви играют дети.
Зато есть небо, рано седое,
Двойное, тройное — что в чем отражается?
Умножение осени всегда сводится к единице —
К этой осени, на которую смотрю.
Та же — у Цветаевой, у Паустовского,
У чёрного сеттера Чарли,
У седоватого тамады в красных носках;
Другая, но скорее всего, та же, — у невесты Насти,
которую я не видел, но это неважно.
Осень — замковый ключ,
Краеугольный камень.
Здесь сходится года свод,
И шаги отзываются сухим хрустом.
Осенью возвращаешься в осень.
Яна Москаленко