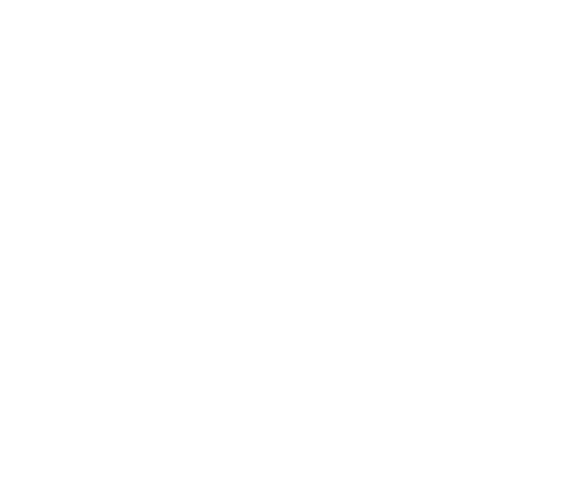«Это не должно было быть»: притча Евгении Некрасовой о жизни и смерти мальчика-ангела
«Улица Холодова» — последний роман писательницы Евгении Некрасовой, который вышел в издательстве Поляндрия NoAge в апреле. В нём Некрасова берется за несвойственный для себя проект: пишет книгу о погибшем корреспонденте «Московского комсомольца» Дмитрии Холодове и одновременно с этим рассказывает историю своего взросления
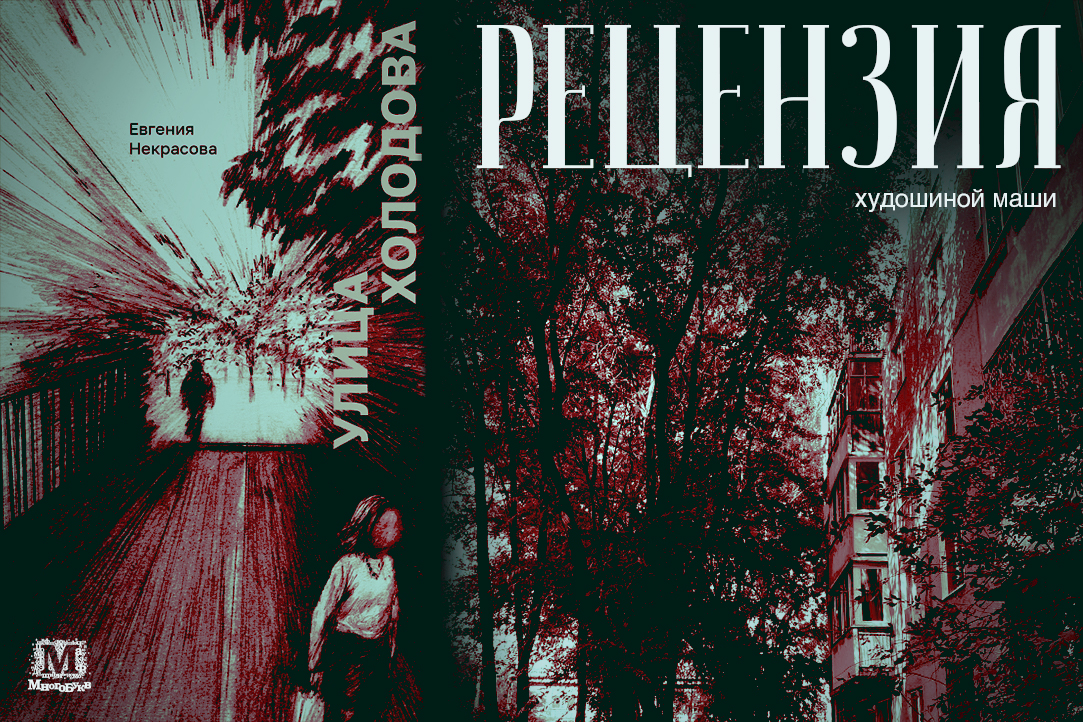
Холодов — военный корреспондент, который в начале девяностых объездил главные горячие точки страны, писал о коррупции в российской армии и проблемах рядовых военнослужащих. 17 октября 1994 года он трагически погиб, подорвавшись на мине, присланной на его имя в редакцию. Некрасова и Холодов, хоть и в разное время, но росли в маленьком подмосковном Климовске, построенном вокруг оборонного предприятия, учились в одной школе — и писательница давно хотела «что-то сделать с историей Холодова», попытаться объяснить для себя и для читателя огромное влияние его журналистской работы и его смерти на российское общество.
Обычно Некрасова пишет полусказочные тексты, в которых славянский фольклор соединяется с грубой постсоветской действительностью (серия «Новые сказки Евгении Некрасовой» в РЕШ) — стиль, который критик Егор Михайлов назвал «магическим пессимизмом». От своей фирменной манеры она не отказывается: практически одновременно с новым романом в свет выходит сборник «Адвокатка Бабы-яги», гораздо более схожий с другими ее текстами. В «Улице Холодова» Некрасова вступает в новое поле — поле автофикшена, полудокументальной прозы и графического романа. Книга создана практически в сотворчестве с другой климовчанкой — иллюстраторкой Верой Ломакиной, и её чёрно-белый гротескный портрет провинциальной жизни — большая удача этого проекта. Как отмечает сама Некрасова в интервью, в процессе написания романа она изменила своим привычкам писательницы-одиночки и обращалась за помощью к многим исследователям, авторам, журналистам и просто людям, так или иначе связанным с Холодовым. Тем не менее, предпосылки для создания этого текста в её письме уже были — это грустный мир электричек, полунищего российского быта и тяжелого школьного детства в «Калечине-Малечине», сборниках «Сестромам», «Домовая любовь» и «Золотинка».
Сама история Димы, описанная в книге, — не документальная в привычном смысле слова, и её едва ли можно рекомендовать как источник точных подробностей жизни молодого журналиста. Это скорее притча, сказочная былина (в лучших традициях Некрасовой) об идеальном советском мальчике, «ангеле», который боролся за всё хорошее и против всего плохого. Писательница, кажется, поставила перед собой невыполнимую задачу — понять, каким человеком был Дмитрий Холодов. Оказалось, что по-настоящему молодого журналиста не знал никто: ни намёков на личную жизнь, ни историй о том, чем жил Дима за пределами редакции. Поэтому его образ постоянно замыкается сам на себе, развивается вокруг нескольких доминант (тексты о коррупции в российской армии, детские сказки о лисятах, бескорыстное и благородное стремление помогать людям), превращается в идеализированную абстракцию. Некрасова пишет биофикшен, проецируя на Холодова своё переживание эпохи, сталкивая свою подмосковную юность с опытом «ангела». Она пытается разгадать, как так вышло, что смерть молодого корреспондента затронула миллионы. Почему по Диме Холодову горевала вся страна, почему такая массовая скорбь была возможна в молодом постсоветском государстве? Она пишет о надеждах на демократию, об искренней вере в силу журналистского слова, о новом обществе, которое еще долго оплакивало эту несправедливую смерть. И о том, как сейчас даже климовчане не знают, в честь кого названа одна из главных улиц их маленького города.
Некрасова не связана с Холодовым напрямую: она пишет о формальных точках соприкосновения с его судьбой, но признаётся, что до тридцати лет никакой журналистской повесткой, никакой «реальностью» не интересовалась. Она была своеобразной противоположностью Холодову, верила в абстрактную правду, как и всякий человек в девяностые, но никогда к ней не стремилась. Почему в Некрасовой произошёл этот перелом? Она, кажется, не очень хорошо понимает сама. Но важно другое: писательница «вернула долг» своему герою (смерть Димы была в некотором смысле «смертью поэта», у которого все мы теперь в неоплатном долгу) и рассказала нам, что собой представляла и представляет жизнь в городе, само существование которого завязано на войне. Война в романе ещё более сказочная, чем Дима. Это мистическое зло, которое внимательно следит за каждым, ждёт случая вмешаться и сломать судьбу, довольно потирает руки, когда мы забываем о ней, но продолжаем бездумно ей служить.
Если в «Калечине-Малечине» опыт школьного буллинга Некрасова перерабатывает в волшебную сказку, то в «Улице Холодова» пишет о моментах полного бессилия и травмы прямо. Язык чистосердечного признания в ПТСР, сухой и несколько неловкий, нужен Некрасовой, чтобы рассказать о часто несчастливом детстве в семье технической интеллигенции, о регулярных отключениях воды и ежедневных поездках на электричках, о бесконечных поисках своего места, поисках «того — не знаю чего». Некрасова по-новому смотрит на свою семью и учителей, на город своего детства, пишет о том, чем он живёт сейчас — об аварии на котельной в январе 2024 года, из-за которой целый город остался зимой без отопления. Она путешествует внутрь себя, оглядывается на тот путь, который прошла, чтобы понять и объяснить себя — и своё поколение. Её роман — для ценителей уязвимости и честности семейных историй Оксаны Васякиной, Марины Кочан и Марии Степановой.
Жизнь и смерть Холодова в начале девяностых стала важным событием в жизни молодой страны, которая откликнулась, как пишет Некрасова, и традиционной советской коммеморацией (памятные таблички и школьные сочинения), и новыми практиками горевания. Но авторка не остается исключительно в прошлом, она аккуратно, по краю заходит на печальную территорию сегодняшнего дня. Мы живём в мире, где смерть Холодова всё ещё не раскрыта, убийцы не наказаны, а Климовск продолжает замерзать. Невольно задумываешься: что бы на это сказал Дима Холодов? Смог бы ли он так же смело и бескорыстно помогать людям в беде?
Ответом становится заключительная часть книги «Я/МЫ Дмитрий Холодов». В ней Некрасова собирает истории о продолжателях дела, которому был предан ее «ангел» — журналистах Рите Логиновой, Татьяне Малкиной, Иване Голунове. В романе несколько раз звучит мысль о том, что журналист в России делает не свою работу, а занимается расследованием, судом, правозащитой. Её роман — широкий жест в сторону этого бесконечного поиска правды в непроглядной тьме вокруг, в сторону свободы слова, само представление о которой для Некрасовой сформировалось не в последнюю очередь благодаря Дмитрию Холодову.