(Не)переводимое?
Якобсон писал, что между языковыми единицами не бывает полной эквивалентности; Гаспаров и Автономова — что «всякому переводчику во всяком переводе приходится жертвовать частностями, чтобы сохранить целое, второстепенным — чтобы сохранить главное». Получается, что-то всегда ускользает, исчезает из текста оригинала, пока он становится переводом. Значит ли это, что тексты, а особенно художественные тексты, непереводимы? В субботу, 25 октября переводчики встретились в Переделкино на фестивале «Игры с огнем», чтобы ответить на этот вопрос (предупредим, все и до этого знали ответ, но мы будем держать интригу до конца статьи — stay tuned)

Тогда почему какие-то тексты остаются непереведенными на протяжении десятилетий? Так было с романом «Едгин, или По ту сторону гор» Сэмюэля Батлера, который был опубликован в 1872 году, а на русском языке появился только в 2023 году в переводе Александра Глазырина. Ирина Алексеева, модератор дискуссии, спросила: «Разве за сто пятьдесят лет не нашлось переводчика? Никто не захотел перевести и опубликовать роман?» «Переводчик хочет, чтобы его книгу увидели читатели», — ответил Александр Филиппов-Чехов. Переводить в стол можно, но надолго ли хватит переводчика? Может, за сто пятьдесят лет и были те, кто хотел перевести роман, но не было издательств, готовых издавать, а у переводчиков были другие заказы, работа, жизнь.
И правда, не всегда издательства готовы публиковать даже уже переведенную книгу. Игорь Мокин со студентами из Creative Writing School переводил путевые записки Гертруды Белл, предлагал издательствам, но опубликовать так и не получилось. Вот мы и подобрались к практической стороне непереводимости: издавать книги дорого. «Я умею смотреть в книжку и переводить, а привлекать средства я не умею», — сказал Игорь. Вот что, по словам Александра Филиппова-Чехова, может делать переводчик: долго и утомительно бегать по издательствам или издать книгу самостоятельно. Заметим, что Александр — основатель издательства Libra Press — свое решение нашел: «Наша задача — забить на лохов и издавать то, что нам нравится».
Итак, книги не переводят, потому что их не хотят издавать. Не хотят издавать, потому что нет денег. Нет денег, потому что читатели мало покупают книг. А читатели покупают только то, что им продают. Откуда им узнать про еще не переведенные книги, которые могли бы появиться, но…
Александр Филиппов-Чехов сказал о наболевшем: «Книжная индустрия пропитана снобизмом». Как познакомить читателя с автором? Прежде всего, убрать взгляд свысока, «Дорогой читатель, сейчас умный я расскажу глупенькому тебе про нового зарубежного автора» — это никуда не годится. Нужно больше писать и говорить о книгах. Александр считает: «Не нужен даже критический взгляд, нужен просто взгляд». И тогда читатель узнает, издатель купит права, переводчик переведет то, что всегда хотел.
И все-таки хочется добавить еще одно. Нужен не просто взгляд, или не просто взгляд на автора. Пусть этот взгляд, а за ним и слово обратится к переводчику. Не просто так за квадратным столом вспомнили Дарью Оверникову, которая перевела роман «Славные подвиги» Фердиа Леннона. Взгляд на роман есть — например, в одной из рецензий отметили, что в переводе не был сглажен или опошлен уникальный язык автора: в доказательство даже приложили страницу из перевода романа. Только вот упомянуть, кто именно старался сохранить язык автора, забыли.
Итак, рецепт переводимости на практике: говорить и писать про книги, говорить и писать про переводчиков, переводить, издавать.
Под дискуссию Александра Филиппова-Чехова и филолога Михаила Позднева о взглядах современного читателя действие перенеслось на первый этаж. Слушатели спустились, чтобы послушать доклад Позднева про обсценную античность. «Квадратный стол» к тому моменту еще не завершился, поэтому Александр Филиппов-Чехов вместо себя оставил «за главного» маскота фестиваля — Шаи-Хулуда, песчаного червя из «Дюны», чья фалличность отлично вписалась в тему доклада Позднева. Оговорим сразу: Дорогой читатель , мы очень старались, но в силу специфики темы не смогли привести все цитаты Михаила.
.jpg)
Доклад Позднева в первую очередь призывал отбросить стереотип о том, что античная литература — это исключительно «высокое искусство». Призывал открыть для себя античность с ее менее известной и более «непристойной» стороны — как с характерным движением бровей на лоб открывают школьники ***** стихи Нашего Всего aka Пушкина. И наконец, попытаться понять, как такое переводить.
Основная проблема перевода таких произведений в следующем: да, в отличие от советского общества, в идеологию которого, по словам Позднева, «эротическая тема не вписывалась», современная аудитория уже ко всему привыкла. Мы не падаем в обморок словосочетаний вроде «оральный секс» (цитата из доклада Михаила). И все же, пусть привычные, эти слова воспринимаются как грубые, порой даже очень грубые. В античном же обществе их «аналоги» грубыми не считались. Другая переводческая проблема заключается в том, что в латыни попросту больше обсценных слов-синонимов с разными смысловыми оттенками — у тех же безобидных русских глаголов «сосать» и «лизать» в латинском свыше десяти эквивалентов. При переводе таких слов часто теряется не только точность, но и юмор.
Михаил Позднев проиллюстрировал это на нескольких примерах. В частности, Геродот в одном из мифов о происхождении скифов рассказывает о встрече Геракла с Ехидной — полуженщиной-полузмеей: Геракл находит в пещере Ехидны пропавших коров Гериона, а та в качестве выкупа требует у него вступить с ней в любовную связь. В переводе Стратановского сказано, что Геракл с ней «соединился». Но есть вариант еще забавнее: в издании для школьников, дабы не шокировать молодые неокрепшие умы, «провокационная» часть опускается, и Ехидна просто через некоторое время торжественно сообщает Гераклу, что у нее от него три сына. В 56 стихотворении из сборника Катулла поэт обращается к Катону: послушай, мол, какой «забавный» случай произошел, — читаешь перевод, и «забавное» совсем не ощущается: в нем не отражается, как именно поэт наказывает «мальчишку и девку» за прелюбодеяние.
Примеры, приведенные Поздневым, сводились к главному тезису: нет единого рецепта перевода обсценного в античной литературе, но надо стараться передать все смыслы, не делая при этом текст грубым..jpg)
Михаил подчеркнул, что с этой проблемой сталкиваются и при переводе с современных европейских языков, где зачастую обсценная лексика не считается столь неприличной, как в России. В Германии и Испании, например, отсутствуют законодательные акты, ограничивающие употребление ненормативной лексики в художественном произведении, а в Великобритании единственный прецедент протеста против ненормативной лексики в литературе был связан с выходом романа Дэвида Лоуренса «Любовник леди Чаттерлей». Между тем, в России есть не только устоявшееся табу на обсценную лексику, есть и закон, запрещающий использование нецензурной брани, например, при показах фильмов или публичных исполнениях произведений литературы. В законе, правда, не дается определение словосочетания «нецензурная брань» (наверное, есть какая-то «цензурная брань»). Но, как справедливо отметил Позднев, в русском языке у матерных слов достаточно и менее грубых эквивалентов, чтобы переводить античные (да и не только) произведения.
О более «привычной» непереводимости поговорили Александра Борисенко и Виктор Сонькин. Они последовательно доказали: даже если в одном языке слово есть, а в другом (о боже!) такого же слова нет, еще не все потеряно. Возьмем, например, слово «хюгге» (здесь авторы статьи позволили себе вольность и не дали ни определений, ни сносок — ни к чему, вы и так знаете). Слово «хюгге», внесенное в 2017 году в Оксфордский словарь английского языка, примерно тогда же появилось и в русском. Встреться оно переводчику до 2017 года, скорее всего, пришлось бы переводить как «чувство уюта, комфорта» — что-то близкое, но не точное. Сейчас же слово есть и в русском языке — слова наращиваются, противостоят непереводимости, появляются, когда становятся нужными культуре..jpg.(800x571x123).jpg)
Но что слова, представим, что вся речь персонажа непереводима. Те, кто читал «Грозовой перевал» только в переводе — а самый распространенный перевод выполнен Надеждой Вольпин, не вспомнят, что речь Джозефа, слуги, отличалась от речи других персонажей. В оригинале Джозеф говорит на чистом йоркширском диалекте. Есть страх, что, стараясь передать речь персонажа с акцентом и диалектом, переводчик превратит его из жителя английской глубинки в уроженца деревни где-то под Нижним Тагилом. Но иногда смелое решение переводчика позволяет точнее описать персонажа. Так, например, перевела речь Джозефа Анастасия Грызунова: «Ну се пшли на двор, а кой-кто тутось лодырит, сраму не зная, а то чогой и поплошее!» Получается, что и непереводимую речь можно перевести.
Порой авторы «мучают» переводчиков не только речью персонажей, но и каламбурами. И часто, переводя текст, хочется сказать: «Спасибо, дорогой автор, очень смешно получилось, но мне-то что с этим делать?» Вставлять сноску и писать: «В оригинале здесь непереводимая игра слов». Даже если игра слов «непереводима», переводчик может компенсировать один каламбур другим, и пусть шутка передвинется на пару предложений вперед, эффект сохранится — читатели будут смеяться и на английском, и на русском, и даже не подумают о непереводимости.
Очень часто, как это было с «хюгге», реалии остаются непереводимыми, пока их кто-нибудь (о боже!) не переведет. До того, как Маршак перевел стишок про Шалтая-Болтая на русский язык, он в переводах «Алисы в Зазеркалье» был «неваляшкой». А сейчас уже кажется, что Шалтай-Болтай всегда был с нами, всегда сидел на стене, всегда с нее падал и делал это уже на русском. Так ли все непереводимо?
Как Дорогой читатель уже догадался, ответ — «нет». Язык и культура, конечно, адаптируются, но очень многое зависит от смелости и изобретательности переводчиков. Именно эти два качества делают переводимым даже самое непереводимое.
Текст: Болховская Анастасия, Пак Георгий
Фото: Пак Георгий
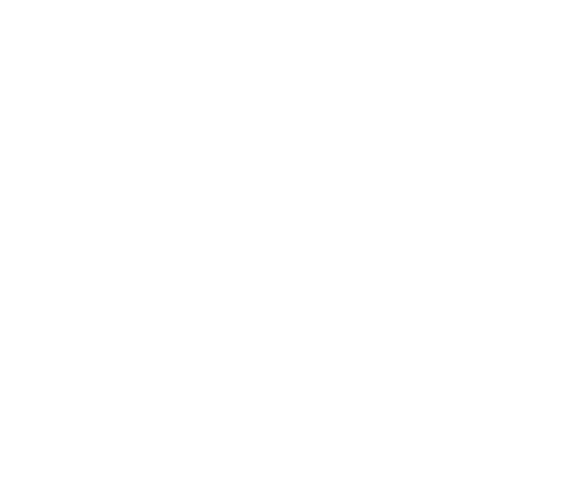

.jpg)